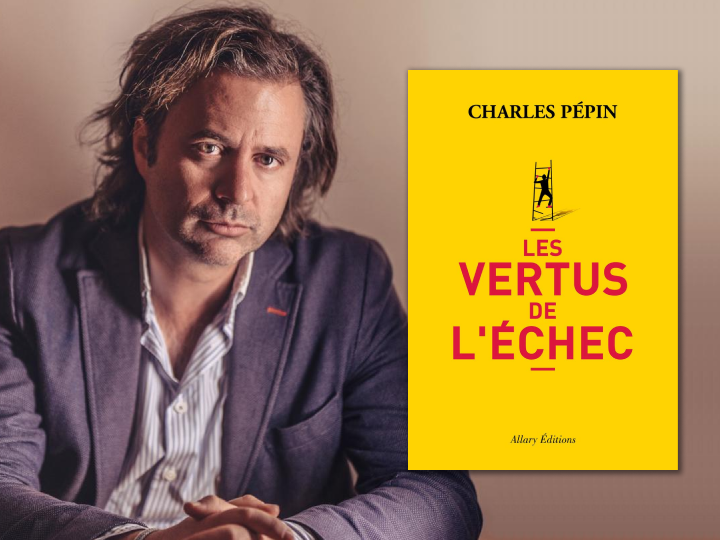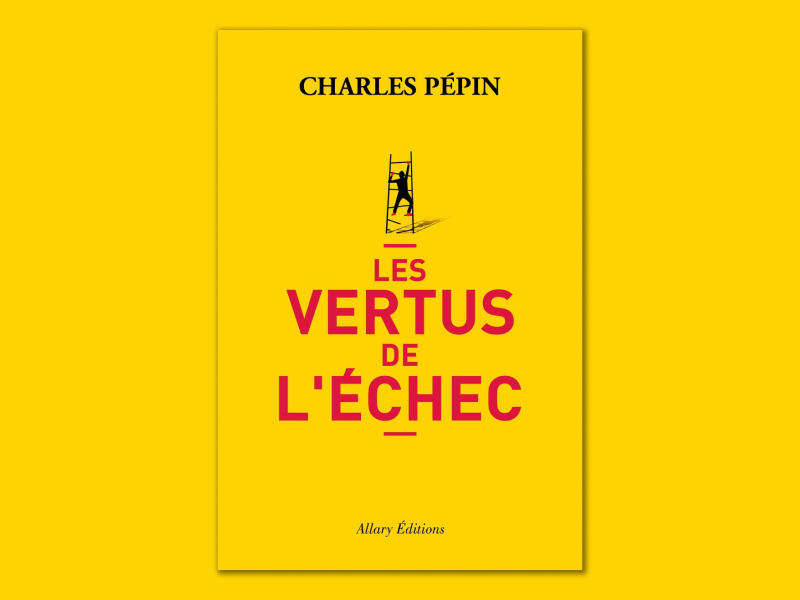
Философам становления противостоят философы бытия. Для них не так важна история отдельного человека, как его неизменная сущность. Христиане называют её душой, Лейбниц субстанцией, а Декарт «я». Это противостояние восходит к истокам западной философии. Родоначальником философии становления можно считать Гераклита. Описывая вечное превращение, Гераклит использует метафору реки: «всё течёт», и «нельзя войти в одну реку дважды». Ему возражает Парменид, который описывает Бога как неизменное Единое. Умонастроение, заданное Парменидом, возобладало в европейской традиции. Большинство философов первой величины — Платон, Декарт, Лейбниц и другие — увлечены статичными сущностями, а не текучим существованием. Нам, воспитанным в этой культурной парадигме, проблематично рассуждать о плюсах неудач. Мы склонны воспринимать свои неудачи как проявление своей сущности.
Философы становления, наследники Гераклита, предлагают альтернативный взгляд: неудачу можно принимать как вопрос «Кем ты мог / могла бы стать теперь?». При таком подходе любое фиаско, любое поражение, любой мнимый тупик — повод подняться, чтобы выбрать новые ориентиры и нового / новую себя. Впрочем, перемены, начало которым даёт неудача, не всегда требуют глубокой личной трансформации. Иногда то, что представляется неудачей, — всего лишь развилка, на которой тебя ожидает счастливая смена жизненной траектории. Если бы Чарльз Дарвин не потерпел неудачу в изучении сначала медицины, а затем богословия, он никогда не отправился бы в то плавание на «Бигле», которое определило его становление как учёного и привело к пониманию механизмов эволюции.

Жизнь слишком коротка, чтобы исчерпать все возможности самореализации. А значит, не стоит пренебрегать шансом начать с чистого листа. Досадно, когда какой-то из жизненных проектов терпит крах. Но равную опасность экзистенциалист видит в том, чтобы стать пленником одного успешного проекта и не открыть иные грани своего существа.
Кто чаще терпит неудачу, тот интенсивнее переживает существование. Биография Жан-Кристофа Рюфена хорошо иллюстрирует этот парадокс. Был врачом, руководил французскими отделениями международных гуманитарных организаций «Врачи без границ» и «Действие против голода»; служил послом Франции в Сенегале и Гамбии; привлёк внимание миллионной аудитории своими книгами, одна из которых удостоилась Гонкуровской премии; в возрасте пятидесяти пяти лет стал самым молодым членом Французской академии. Звучит как послужной список баловня судьбы. При ближайшем рассмотрении, однако, за чередой успехов проглядывает цепь разочарований. Поняв, что в существующей системе здравоохранения не стать тем врачом, каким мечтал быть, Рюфен переключился на поприще гуманитарной деятельности. Осознав ограничения благотворительной миссии, обратился к политике. Когда стало ясно, что через компромиссы, интересы групп влияния и дипломатическую риторику не пробиться, он посвятил себя писательству. В какой-то момент гул всеобщего признания стал тяготить, и тогда Рюфен — отправился в пеший поход по Пути святого Иакова. Заметки об этом путешествии от себя к себе стали бестселлером.
Майлз Дэвис говаривал: «Нота, которую ты играешь не может быть фальшивой. Лишь нота, которую ты сыграешь следующей, сделает первую удачной или неудачной». Сартр, который любил джаз, был бы в восторге от этих слов.