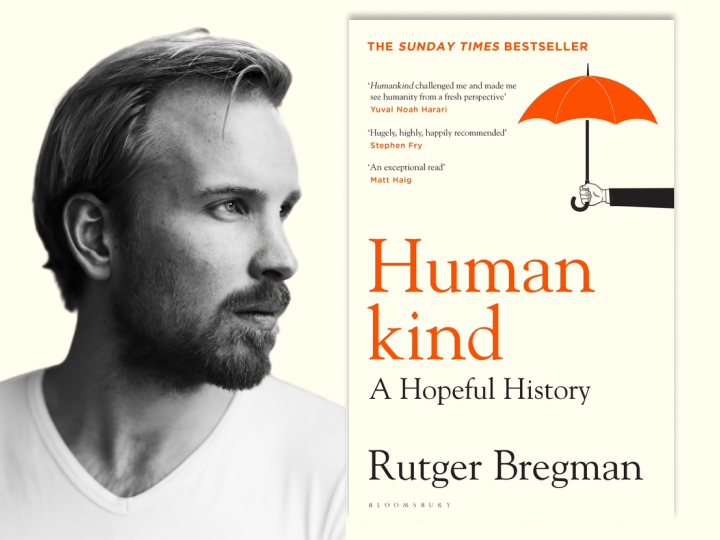Ниже — сжатый пересказ одной из первых глав.
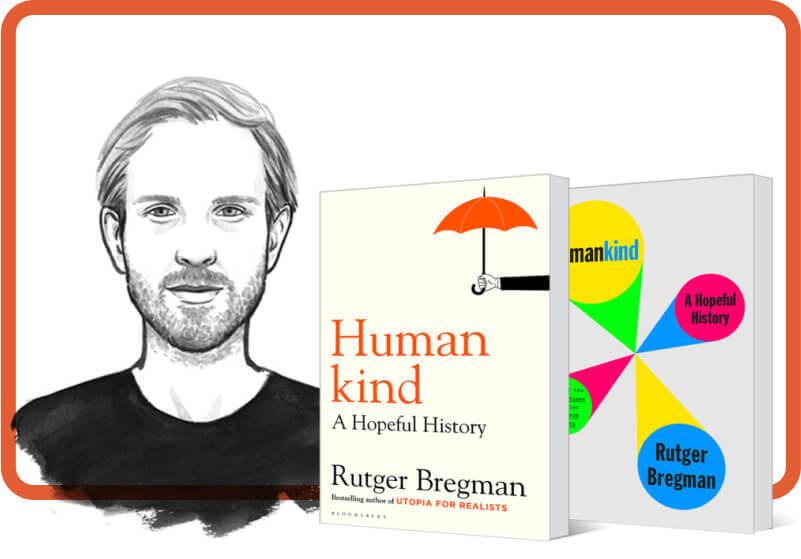
Представь 4 000 000 лет биологической эволюции в масштабе одного года. При таком раскладе до середины октября высшей формой жизни были бактерии. Человек вышел на арену жизни 31-го декабря приблизительно в 11 ночи. Почти весь «час» нашего существования мы провели как охотники-собиратели, а сельское хозяйство изобрели за две минуты до полуночи. Всё, что мы называем историей, от строительства пирамид до высадки на Луну, произошло в последние «60 секунд».
Какая суперспособность позволила нашему виду добиться такого взрывного успеха? Точно не физическая сила. Многие из братьев наших меньших сильнее и быстрее нас. Интеллект? Ну, это как посмотреть. Почти все знания и навыки, которыми вы обладаете, были усвоены в процессе обучения. Ни сделать селфи, ни назвать себя по имени ты не сможешь, если научишься этому у других людей. Учёные обнаружили, что врожденные когнитивные способности двухлетних младенцев в целом не превосходят интеллект приматов. (За одним разительным исключением; о нём — в конце.) Кое в чём мы им даже уступаем.

Если бы всё зависело от физической и умственной силы, то властителем Земли должен был стать не Homo sapiens, в неандерталец. Крутые настолько, что вступали в схватки с мамонтами и саблезубыми тиграми, неандертальцы обладали мозгом на 15% более крупным, чем наш. И пользовались им по назначению: готовили пищу на костре, изготавливали одежду и украшения, создавали музыкальные инструменты и наскальную живопись. Возможно, мы заимствовали у них некоторые каменные орудия и практику захоронения умерших. Так почему, пережив два ледниковых периода, они исчезли вскоре после появления нашего вида? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться с другим курьёзом эволюции.
Ещё Дарвин заметил, что совершенно разные домашние животные — свиньи, кролики, овцы — имеют одно общее свойство. Пройдя через сито искусственного отбора, они становятся похожими на младенцев: уменьшаются в размере, сокращают размер мозга и зубов; их уши часто отвисают, хвосты загибаются, а на шерсти появляются белые пятна. Через сто лет русские учёные Дмитрий Беляев и Людмила Трут в знаменитом эксперименте с дикими лисами нашли объяснение этому явлению: младенческие черты во внешности и поведении одомашненных животных — побочный продукт отбора на пониженную агрессивность (дружелюбие). Беляев предположил, что миловидность и игривость одомашненных животных связана с повышенным уровнем серотонина и окситоцина — гормонов «счастья и привязанности».

Учёный выдвинул смелую гипотезу: эволюция человека также проходила под давлением отбора на дружелюбие, в результате чего (посредством гормональной регуляции) в нашем облике и поведении стали усиливаться детские черты. Позднейшие исследования эволюции человеческих черепов за последние 200 тысяч лет подтвердили эту догадку. Эволюционируя по принципу «выживает наиболее дружелюбный», человек стал по отношению к неандертальцу тем же, чем собака по отношению к волку.
Кажется, эффекты одомашнивания только отдаляют нас от ответа на вопрос «в чём сила, брат?» На самом деле, остаётся лишь шаг. У отбора по дружелюбию, который приводит к развитию у вида детских черт, есть ещё один «побочный продукт»: развитая способность учиться, наблюдая за окружающими. Социальное научение — единственный навык, который резко выделяет врожденные умственные способности человека на фоне приматов.
Человек — единственное животное на этой планете, которое краснеет; так мы демонстрируем, насколько нам важно, что о нас подумают. Мы также единственный из более двухсот видов приматов, у которого радужка глаз окружена белком; это помогает нам отслеживать направление взгляда друг у друга. Добавь сюда экспрессивные возможности наших бровей, которые мы развили, отказавшись от массивных надбровных дуг. Наша суперсила — открытость друг другу, доверие, готовность кооперироваться. Мы ультрасоциальные суперобучаемые милашки.